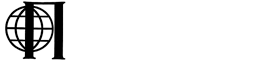Общество, политика, власть
Речь идёт о книге Ричарда Пайпса «Три почему Русской революции». Её написал человек феноменального профессионального успеха: эмигрант из Польши – профессор Гарвардского университета, советник президента США по советологии.
Мой личный путь в историческую науку лежал через прослушивание по «Голосу Америки», записывание, конспектирование главы об убийстве царской семьи. Эта глава из ещё неоконченной тогда книги «Русская революция» была впервые опубликована в 1988 г. в № 19 сборника «СССР: внутренние противоречия», издаваемом Валерием Чалидзе в Нью-Йорке. Эта публикация и её чтение в том же году в программе «Страницы истории» были приурочены к семидесятой годовщине.
Ричарда Пайпса в российских кругах, согласно самоопределению, патриотических, часто называют «русофобом». Во всяком случае я к патриотизму в отношении России до 1917 года пришёл именно благодаря Пайпсу.
Сейчас, в связи со столетием революции обратимся к монографии «Три почему…», которая резюмирует трилогию: «Россия при старом режиме» – «Русская революция» – «Россия при большевиках», более ранние, на основе гарвардской диссертации: «Струве – левый либерал», «Струве – правый либерал», работы относительного недавнего времени – по истории России XVIII века, одна из которых вышла в издательстве «Посев».
«История русской революции, – пишет Пайпс, – оставалась главной темой профессиональных занятий на протяжении всей моей жизни: я посвятил ей и самую первую книгу, и самую последнюю, изданную через сорок лет после первой. Многочисленные работы, опубликованные в промежутке, также главным образом посвящены революции или же непосредственно предшествующим ей периодам. Мой интерес к данной теме в значительной мере объясняется тем, что я родился сразу же после революции, причём в Польше, непосредственно граничащей с Россией, и жил с тех пор в мире, ощущавшем на себе существенное воздействие послереволюционного развития событий».
Профессор считает своими главными историческими трудами, посвящёнными данной теме «Русская революция» (1990) и «Россия под властью большевиков», вышедшую четыре года спустя. Суммарный объём двух книг – 1 350 страниц текста, освещающего в достаточно детализированной форме русскую историю с 1899-го по 1924 г. Там представлена доказательная сторона обобщений, основанная на курсе лекций, прочитанных в январе 1995 г. в венском Институте гуманитарных наук. В этих лекциях профессор обратился к тому, что ему представляется тремя центральными проблемами или тремя «почему» русской революции: а именно к причинам крушения царизма, триумфа большевиков и прихода к власти Сталина.
«Мои ответы на эти вопросы во многих аспектах отличаются от тех, что дают представители так называемой ревизионистской школы историографии, которая появилась на Западе в шестидесятые годы и достигла на сегодняшний день академической респектабельности. Там, где ревизионисты, подобно прежним советским историкам, подчёркивают социальную составляющую происходящего, я уделяю главное внимание политической. Методически разнящимися подходами обусловлено и очевидное расхождение истолкований: на взгляд ревизионистов, приводным ремнем истории являются безудержные и анонимные силы, тогда как, на мой взгляд, решающим фактором выступает человеческая воля».
По мере того, как продвигалась работа, учёного, у него появилась возможность получить доступ к советским архивам. В ключая и ту, что почерпнута из секретного ленинского фонда в Центральном Партийном Архиве в Москве.
«Я пришёл к тщательно продуманному выводу: если бы не произошла русская революция, в истории, скорее всего, не нашлось бы места национал-социализму и, возможно, Второй мировой войне».
Пайпс задаётся вопросами: Почему пал царизм? Почему большевики захватили власть? Почему на смену Ленину пришёл Сталин?
«Советская историческая литература мало интересовалась тем, что происходило в действительности, отражая вместо этого лишь такие представления о случившемся, какие власть хотела внушить народу. Со временем хитросплетения полуправды, четверть-правды и откровенной лжи превратились в столь непроходимые дебри, что независимому исследователю приходится прорубаться сквозь них, как если бы он вдруг очутился в первозданном тропическом лесу».
Профессор сожалеет о том, что, начиная с шестидесятых годов и далее размышления примерно того же порядка посетили и западную науку, дав изначальный толчок школе так называемого ревизионизма, приверженцы которой в Соединённых Штатах, Англии и Германии, по различным причинам как интеллектуального, так и личного свойства, – начали по собственной воле и свободному выбору вторить истолкованиям русской революции, являвшимся на тот момент в СССР сугубо обязательными. Их ревизионизм заключался в попытке вытеснить открытия независимых учёных из числа русских эмигрантов и их западных последователей (представлявших собой по отношению к «ревизионистам» непосредственно предшествующее поколение учёных), «принимая – с незначительными изменениями – темы и интерпретации исторической псевдонауки СССР постсталинского периода, которая, как и раньше, находилась под властью и под контролем партии».
«Отчасти находясь под влиянием марксизма, а отчасти вдохновляясь французской школой “Анналов”, – продолжает профессор, – такие учёные настаивали на необходимости изучения истории “снизу” или исходили из предпосылки, что историей движут исключительно социальные конфликты. Другие вступали на тот же путь, руководствуясь куда менее похвальными личными мотивами: приятие – в самом широком смысле слова – той версии истории, которая была одобрена советской властью, открывало для них доступ во второстепенные архивные фонды в СССР и обеспечивало иными преимуществами и выгодами, которые была в состоянии предоставить Москва».
«Если все, за редкими исключениями, учёные Запада, – развивает свою мысль профессор, – публикующие работы по истории Третьего рейха, не скрывали и не скрывают однозначной враждебности к нацизму, то большинство западных авторов, выступивших за последние тридцать лет с работами о коммунизме и о Советском Союзе, в большей или меньшей степени обоим этим явлениям сочувствуют. В прошлом они имели тенденцию подчёркивать положительный опыт и достижения России после 1917 г. и объяснять её провалы или тяжёлым наследием царизма или враждебностью окружения; если не удавалось ни то ни другое, – естественными трудностями, которыми сопровождается попытка построения принципиально нового общества, основанного на равенстве и социальной справедливости».
Пайпс считает, что, немецкие историки особенно старательно избегают критики коммунистического прошлого и определённо пасуют перед любыми попытками провести какие бы то ни было параллели между национал-социализмом и коммунизмом. «Их страстный отказ даже от рассмотрения совпадений такого рода, их преследование всякого, кому вздумается обратить их внимание на эти связи и сходства, заставляют предположить, что они испытывают психологическую необходимость дезидентификации с нацизмом: а поскольку нацисты были антикоммунистами, сам антикоммунизм окрашивается в их сознании в нацистские тона. Англоязычные учёные, не страдающие комплексом вины в связи с нацизмом, испытывают меньшие трудности (если они, конечно, не настроены про-коммунистически)».
Учёный полагает, что каковы бы ни были причины, за последние три десятилетия произошла конвергенция подходов со стороны советской и западной историографии применительно к теме революции и первых послереволюционных лет. Что господствующей в среде западных историков стала точка зрения, согласно которой падение царизма, равно как и торжество большевизма были предопределены, тогда как насущная необходимость сделать преемником Ленина именно Сталина была своего рода исторической случайностью. «Однако вплоть до настоящего времени такие историки не способны объяснить главного: почему же подобная случайность имела место».
Пайпс ставит вопрос: был ли захват власти, осуществлённый большевиками, народной революцией или заурядным переворотом?
«Западные историки – особенно представители младшего поколения – всё сильнее и сильнее склоняются к советскому взгляду на вещи, согласно которому в октябре 1917 г. и впрямь произошла народная революция, в ходе которой действия большевиков определялись давлением широких масс. Мой тезис полностью противоположен тому, который выдвинули и пропагандируют ревизионисты и который к настоящему времени стал в университетах западного мира в буквальном смысле слова обязательным. Я постулирую и подкреплю доказательствами тот тезис, согласно которому ни в падении царизма, ни в захвате власти большевиками не было ничего заранее предопределённого. Строго говоря, мне кажется, что захват власти большевиками был своего рода аномалией, однако, поскольку он произошёл и машина тоталитаризма оказалась запущена, подъём к вершинам власти Сталина стал неизбежным последствием этой аномалии».
Учёный анализирует уровень, на котором действует фактор случайности. В канун большевистского переворота, вечером 24 октября 1917 г., Ленин покинул одну из конспиративных квартир, на которых он с начала июля скрывался от полиции, имевшей ордер на его арест. Он отправился в Смольный, штаб-квартиру большевистского командования.
«А если бы арестовали, то, возможно, никакого большевистского переворота никогда бы не произошло, потому что Ленин был душой переворота и, к тому же, единственным, у кого имелся определённый план действий. Аналогичным образом, если бы Фанни Каплан – террористка из эсеров, стрелявшая в Ленина в августе 1918 г., – не страдала дефектом зрения и взяла бы, прицеливаясь, на миллиметр левее или правее, он был бы убит, а большевистский режим, уже находившийся на грани гибели, скорее всего, рухнул бы».
Пайпс пишет о своей лаборатории учёного-историка: «Мой почти полувековой научный опыт, подкреплённый двухлетней службой в Вашингтоне, убеждает меня в том, что попытка найти одно-единственное объяснение случившемуся событию представляет собой в большинстве случаев занятие совершенно бесплодное. Подобно хирургу, историк должен искусно использовать инструменты во всём их многообразии, если он стремится вскрыть причины общих событий. Любое однозначное объяснение непременно окажется ошибочным».
Возвращаясь к анализу работы “коллег”: «Было бы славно, если бы эти историки обладали способностью предсказывать будущее с такой же точностью, с какою они “предсказывают” прошлое, но никто из адептов исторической неизбежности применительно к падению царизма не смог предвидеть распада СССР».
Советолог напоминает, что ещё в январе 1917 г., находясь в эмиграции в Швейцарии, Ленин пророчествовал, что ни ему самому, ни его поколению не дожить до революции в России. И пророчествовал он так за семь недель до падения царизма. Если и был в Европе человек, понимавший всю слабость царской России, то этим человеком был Ленин, и всё-таки даже он оказался не в состоянии предвидеть её близкой гибели, которая кажется ныне – задним числом – столь очевидной историкам-ревизионистам.
«Другим доказательством того факта, что современники верили в несокрушимость царизма, являются крупные иностранные капиталовложения в экономику России периода позднего самодержавия, делавшиеся главным образом французами, хотя и не только ими. Миллиарды долларов были вложены в русские займы и страховые полисы – и практически все эти деньги были потеряны в 1918 г. после того, как большевики отказались от государственного долга и национализировали предприятия частного сектора».
Пайпс показал, почему царский режим вовсе не обязательно должен был рухнуть. Остаётся, однако же, вопрос, почему он, тем не менее, рухнул? «Чтобы ответить на него, нам необходимо избавиться от марксистского представления о том, что все исторические события детерминированы общественными конфликтами».
«Конечно, в истории мы встречаемся со многими классовыми конфликтами, но нам известны и события, имеющие совершенно иные причины: идеологические, религиозные и так далее. Как я уже говорил, любое однолинейное объяснение того или иного исторического феномена (а объяснения марксистов именно таковы) непременно оказывается ложным».
Согласно самооценке, Пайпс относится в высшей мере скептически ко всем марксистско-социалистическим подходам к истории, особенно – к истории революций, поскольку убеждён: когда так называемые массы устраивают беспорядки, причиной последних являются какие-то конкретные тяготы, вполне подлежащие устранению или смягчению в рамках существующего строя.
Весной 1905 г. самодержавие предложило народу отправлять письменные жалобы правительству. Сотни таких жалоб и впрямь были посланы. Ни в одной из жалоб не выдвигалось требования о фундаментальной ломке режима, то есть об отмене самодержавия. Крестьяне просили о снижении налогов и об увеличении земельных наделов; рабочим хотелось получить восьмичасовой рабочий день и право организовывать профсоюзы; национальные меньшинства добивались большей автономии.
«Все эти требования вполне можно было удовлетворить в рамках существовавшего режима, если бы у его руководителей хватило смелости на это пойти, а у интеллигенции – здравого смысла этому помочь».
Учёный считает ошибочным связывать Февральскую революцию с усталостью от войны. Он считает верным нечто прямо противоположное. Русским хотелось вести войну более эффективно.
«Усталость от войны началась только после неудачного наступления в июне 1917 г.»
Пайпс выражает убеждённость, что царь, мог бы спасти корону, если бы именно это представлялось ему самой главной задачей. Единственным, что для этого требовалось, было заключение сепаратного мира – точь-в-точь по тому рецепту, к которому прибег Ленин в марте 1918 г. «Заключи он такой мир с немцами и австрийцами – а они откликнулись бы на подобное предложение с великой охотой, потому что обеим империям не терпелось положить конец боевым действиям на Восточном фронте, с тем чтобы перенести всю их тяжесть на Западный, – тогда Первая мировая война, возможно, принесла бы прямо противоположные результаты. Пойди он на сепаратный мир, допустим, в конце 1916 г., вернув домой в боевых порядках миллионы солдат, способных положить конец гражданской смуте, немцы, возможно, разбили бы силы Антанты во Франции и Бельгии, а русской революции не случилось бы. Но, будучи страстным патриотом и верным союзником, царь даже не взвешивал подобную возможность. А когда генералы внушили ему, что враждебность по отношению к нему и к царице достигла такой остроты, что для дальнейшего ведения войны Россией необходимо его отречение, он отрекся от престола. И поступил так исключительно из патриотических побуждений. Тщательно проанализировав огромный объем информации, связанной с событиями, приведшими к отречению Николая Второго, я не имею ни малейших сомнений в том, что царь уступал вовсе не всенародному натиску; единственный нажим осуществлялся политиками и генералами, которым устранение монарха представлялось существенным фактором достижения победы».
Оставить отзыв