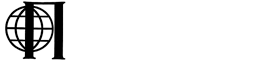–ì–æ–¥—ã –≤–æ–π–Ω—ã
–î–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–æ–≥–æ –∏—é–Ω—è 1941 –≥., –≤ –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç–µ 17 –ª–µ—Ç, —è –æ–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∞ 10 –∫–ª–∞—Å—Å–æ–≤ —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–π —à–∫–æ–ª—ã –Ω–∞ –æ—Ç–ª–∏—á–Ω–æ, —á—Ç–æ –¥–∞–≤–∞–ª–æ –º–Ω–µ –ø—Ä–∞–≤–æ –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∏—Ç—å –≤ –≤—ã—Å—à–µ–µ —É—á–µ–±–Ω–æ–µ –∑–∞–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–µ –±–µ–∑ –≤—Å—Ç—É–ø–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö —ç–∫–∑–∞–º–µ–Ω–æ–≤. –Ø —Ö–æ—Ç–µ–ª–∞ –æ–∫–æ–Ω—á–∏—Ç—å –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ–∏–∏ –∏ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä—ã (–ú–ò–§–õ–ò). –ù–æ –∂–∏–∑–Ω—å —Å–ª–æ–∂–∏–ª–∞—Å—å –∏–Ω–∞—á–µ: –º–Ω–µ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –∏—Å–ø—ã—Ç–∞—Ç—å —É–∂–∞—Å—ã –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–π –≥–µ—Å—Ç–∞–ø–æ–≤—Å–∫–æ–π —Ç—é—Ä—å–º—ã –∏ –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω—ã–µ –º—É–∫–∏ –≤ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π —Ç—é—Ä—å–º–µ –∏ –ª–∞–≥–µ—Ä—è—Ö - –≤ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ –ø–æ—á—Ç–∏ –æ–¥–∏–Ω–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –ª–µ—Ç.
–ê—Ç—Ç–µ—Å—Ç–∞—Ç –º–Ω–µ –≤—Ä—É—á–∏–ª–∏ 20 –∏—é–Ω—è, –∞ 22-–≥–æ –Ω–∞—á–∞–ª–∞—Å—å –≤–æ–π–Ω–∞. –í—Å–∫–æ—Ä–µ, 6 –∏—é–ª—è, —è —É—à–ª–∞ –¥–æ–±—Ä–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –Ω–∞ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç –∏ –ø–æ–ø–∞–ª–∞ –Ω–∞ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã—Ö —É–∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω–∏–π –Ω–∞ –ª–∏–Ω–∏–∏ –ë—Ä—è–Ω—Å–∫ - –°–º–æ–ª–µ–Ω—Å–∫. –Ý–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ –¥–Ω–µ–º –∏ –Ω–æ—á—å—é, —Å–ø–∞–ª–∏ –º–∞–ª–æ, –≤ —à–∞–ª–∞—à–∞—Ö –∏–∑ –µ–ª–æ–≤—ã—Ö –ª–∞–ø. –®–ª–∏ –¥–æ–∂–¥–∏, —à–∞–ª–∞—à–∏ –ø—Ä–æ–º–æ–∫–∞–ª–∏ –Ω–∞—Å–∫–≤–æ–∑—å, —è –∑–∞–±–æ–ª–µ–ª–∞ –∏—à–∏–∞—Å–æ–º –∏ —Ñ—É—Ä—É–Ω–∫—É–ª–µ–∑–æ–º, —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∏ –º—ã –≤–ø—Ä–æ–≥–æ–ª–æ–¥—å. –ù–µ–º—Ü—ã —Å—Ç—Ä–µ–º–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∂–∞–ª–∏—Å—å. –ù–∏–∫–æ–º—É –¥–æ –Ω–∞—Å –¥–µ–ª–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–æ, –∏ –Ω–∞—Å —Ä–∞—Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏ –ø–æ –¥–æ–º–∞–º.
–Ø –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∞ –≤ –º–æ–π —Ä–æ–¥–Ω–æ–π –≥–æ—Ä–æ–¥ –ö–ª–∏–Ω—Ü—ã –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏ 18 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞, –∞ –≤ –Ω–æ—á—å –Ω–∞ 19-–µ –µ–≥–æ –∑–∞–Ω—è–ª–∏ –Ω–µ–º—Ü—ã. –û—Ç—Ü–∞ –º–æ–µ–≥–æ —è –∑–∞—Å—Ç–∞–ª–∞ –ø—Ä–∏ —Å–º–µ—Ä—Ç–∏, —á–µ—Ä–µ–∑ –º–µ—Å—è—Ü –æ–Ω —É–º–µ—Ä. –•–ª–µ–±–∞ —É –Ω–∞—Å —Ç–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–æ, –Ω–µ –±—ã–ª–æ –≤–æ–æ–±—â–µ –Ω–∏–∫–∞–∫–∏—Ö –∑–∞–ø–∞—Å–æ–≤. –ú–∞–º–∞ –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∞ –±—Ä—é–∫–≤—É, –µ–µ –º—ã –≤–∞—Ä–∏–ª–∏, –∏ –º–æ—Ä–∫–æ–≤—å, –∏–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –ø–µ–∫–ª–∏ –ª–µ–ø–µ—à–∫–∏. –¢–∞–∫ –º—ã –ø–æ—Å–ª–µ –ø–∞–ø–∏–Ω–æ–π —Å–º–µ—Ä—Ç–∏ –∏ –∂–∏–ª–∏: –º–∞–º–∞, –±—Ä–∞—Ç –í–æ–ª–æ–¥—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –±—ã–ª–æ 12 –ª–µ—Ç, –∏ —è. –°—Ç–∞—Ä—à–∏–π –±—Ä–∞—Ç –ê–ª–µ–∫—Å–µ–π –±—ã–ª –Ω–∞ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–µ.
–ù–µ–º—Ü—ã —Ä–∞—Å–∫–ª–µ–∏–ª–∏ –ø–æ–≤—Å—é–¥—É –ø—Ä–∏–∫–∞–∑—ã –æ–± –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π —Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ü–∏–∏ –Ω–∞ –±–∏—Ä–∂–µ —Ç—Ä—É–¥–∞ –≤—Å–µ—Ö —Ç—Ä—É–¥–æ—Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω—ã—Ö. –ß—Ç–æ–±—ã –∏–∑–±–µ–∂–∞—Ç—å –Ω–∞—Å–∏–ª—å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∫–∏ –Ω–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç—É –≤ –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏—é, —è —Å—Ç–∞–ª–∞ –ø—Ä–µ–ø–æ–¥–∞–≤–∞—Ç—å –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∏–π —è–∑—ã–∫ –≤ —à–∫–æ–ª–µ. –í —Ç–æ –∂–µ –≤—Ä–µ–º—è —è –ø–∏—Å–∞–ª–∞ –Ω–∞ –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–º —è–∑—ã–∫–µ –ª–∏—Å—Ç–æ–≤–∫–∏ –æ –∑–≤–µ—Ä—Å—Ç–≤–∞—Ö –Ω–µ–º—Ü–µ–≤ –Ω–∞–¥ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–º–∏ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–ø–ª–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –∏ –µ–≤—Ä–µ—è–º–∏. –•–æ–¥–∏–ª–∞ –≤ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å, –º–æ–ª–∏–ª–∞—Å—å –æ–± –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏ —Ä–æ–¥–∏–Ω—ã.
–í –ù–ï–ú–ï–¶–ö–û–ô –¢–Æ–Ý–¨–ú–ï
–õ–µ—Ç–æ–º 1942 –≥. –∫ –Ω–∞–º –≤ –ö–ª–∏–Ω—Ü—ã –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª –Æ—Ä–∏–π –°–æ–ª–æ–≤—å–µ–≤, 18-–ª–µ—Ç–Ω–∏–π —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π —ç–º–∏–≥—Ä–∞–Ω—Ç –∏–∑ –ü–æ–ª—å—à–∏. –û–Ω –ø—Ä–∏–≤–µ–∑ –Ω–∞–º –ø–∏—Å—å–º–æ –æ—Ç –Ω–∞—à–∏—Ö —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏–∑ –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–∞.
–ù–∞—à–∞ —Å–µ–º—å—è —Å—Ç–∞—Ä–æ–æ–±—Ä—è–¥—á–µ—Å–∫–∞—è, –æ—Ç–µ—Ü, –º–∞—Ç—å –∏ –≤—Å–µ —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–∏ –±—ã–ª–∏ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ –≤–µ—Ä—É—é—â–∏–º–∏, –º–æ–π –ø—Ä–∞–¥–µ–¥ –±—ã–ª —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–º. –£ –Ω–∞—Å –±—ã–ª–∏ –∫–∏–æ—Ç—ã —Å–æ —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–Ω—ã–º–∏ –∏–∫–æ–Ω–∞–º–∏, —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω—ã–µ –∫–Ω–∏–≥–∏. –ù–∏–∫—Ç–æ –∏–∑ –º–æ–∏—Ö —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –Ω–µ –≤—Å—Ç—É–ø–∞–ª –≤ –±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏—Ü–∫—É—é –ø–∞—Ä—Ç–∏—é. –°–æ–ª–æ–≤—å–µ–≤ –ø—Ä–æ–Ω–∏–∫—Å—è –∫–æ –º–Ω–µ –¥–æ–≤–µ—Ä–∏–µ–º. –û –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –æ–Ω –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª —Å –±–æ–ª—å—à–æ–π –ª—é–±–æ–≤—å—é, –º—ã —á–∏—Ç–∞–ª–∏ —Å –Ω–∏–º —Å—Ç–∏—Ö–∏ –æ —Ä–æ–¥–∏–Ω–µ, —Å –Ω–µ–ø—Ä–∏—è–∑–Ω—å—é –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏ –æ –Ω–µ–º—Ü–∞—Ö, –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å—ã –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å —á–∏—Å—Ç–æ –∑–∞—Ö–≤–∞—Ç–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–º–∏. –Æ—Ä–∏–π –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, —á—Ç–æ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π –Ω–∞—Ä–æ–¥ –ø–æ–±–µ–¥—ã –Ω–µ–º—Ü–µ–≤ –Ω–µ –¥–æ–ø—É—Å—Ç–∏—Ç. –Ø –µ–º—É —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∞ –æ–± –∏–∑–¥–µ–≤–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞—Ö –Ω–∞–¥ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–º–∏ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–ø–ª–µ–Ω–Ω—ã–º–∏, —ç—à–µ–ª–æ–Ω—ã —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º–∏ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –º–∏–º–æ –Ω–∞—à–µ–≥–æ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞. –ú—ã —Å –º–æ–µ–π –¥–≤–æ—é—Ä–æ–¥–Ω–æ–π —Å–µ—Å—Ç—Ä–æ–π –í–∞–ª–µ–π –°–º–∏—Ä–Ω–æ–≤–æ–π –≤—ã–Ω–æ—Å–∏–ª–∏ –∫ –ø–ª–∞—Ç—Ñ–æ—Ä–º–∞–º —Å –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–ø–ª–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –≤–∞—Ä–µ–Ω—É—é –∫–∞—Ä—Ç–æ—à–∫—É, —Å–≤–µ–∫–ª—É, –±—Ä—é–∫–≤—É. –í –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ, –∫—Ç–æ –æ—Å–º–µ–ª–∏–≤–∞–ª—Å—è —Å–ø—Ä—ã–≥–Ω—É—Ç—å –∑–∞ –µ–¥–æ–π —Å –ø–ª–∞—Ç—Ñ–æ—Ä–º—ã, –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–∏ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª–∏. –Ý–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∞ —è –Æ—Ä–∏—é –∏ –æ –Ω–µ–≤–∏–¥–∞–Ω–Ω—ã—Ö –∏ –Ω–µ—Å–ª—ã—Ö–∞–Ω–Ω—ã—Ö –∑–≤–µ—Ä—Å—Ç–≤–∞—Ö –Ω–µ–º—Ü–µ–≤ - –º–∞—Å—Å–æ–≤—ã—Ö —É–±–∏–π—Å—Ç–≤–∞—Ö –Ω–∏ –≤ —á–µ–º –Ω–µ –ø–æ–≤–∏–Ω–Ω—ã—Ö –ª—é–¥–µ–π —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ –µ–≤—Ä–µ–∏.
–Æ—Ä–∏–π –≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ —è –≤—Å–µ–π –¥—É—à–æ–π –∂–µ–ª–∞—é —Å–∫–æ—Ä–µ–π—à–µ–≥–æ —Ä–∞–∑–≥—Ä–æ–º–∞ –Ω–µ–º—Ü–µ–≤ –∏ –ª—é–±–ª—é –Ý–æ—Å—Å–∏—é. –ò –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –¥–∞–ª –º–Ω–µ –ø—Ä–æ—á–µ—Å—Ç—å –±—Ä–æ—à—é—Ä—É –ù–¢–°–ù–ü (–ù–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ-–¢—Ä—É–¥–æ–≤–æ–π –°–æ—é–∑ –ù–æ–≤–æ–≥–æ –ü–æ–∫–æ–ª–µ–Ω–∏—è - —Ç–∞–∫ —Ç–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª—Å—è –ù–¢–° - –Ý–µ–¥.), –≥–¥–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –Ω–µ –±—ã—Ç—å –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–π –∫–æ–ª–æ–Ω–∏–µ–π, –≥–¥–µ –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–π –Ω–∏—Ç—å—é –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π –ø–∞—Ç—Ä–∏–æ—Ç–∏–∑–º –∏ –Ω–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–∞—è –≥–æ—Ä–¥–æ—Å—Ç—å. –≠—Ç—É –±—Ä–æ—à—é—Ä—É —è –¥–∞–ª–∞ –ø—Ä–æ—á–µ—Å—Ç—å —Ç—Ä–æ–∏–º –¥—Ä—É–∑—å—è–º.
–í—Å–∫–æ—Ä–µ —è –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∞—Å—å –≤ –ë—Ä—è–Ω—Å–∫, —á—Ç–æ–±—ã –æ—Ç–≤–µ–∑—Ç–∏ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç–æ–≤ —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≥–æ–ª–æ–¥–∞–ª–∏. –¢–∞–º —è —Å–Ω–æ–≤–∞ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–∞—Å—å —Å –Æ—Ä–∏–µ–º –°–æ–ª–æ–≤—å–µ–≤—ã–º, –∏ –æ–Ω –ø–æ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏–ª –º–µ–Ω—è —Å–æ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∞–º–∏ - —ç–º–∏–≥—Ä–∞–Ω—Ç–∞–º–∏ –í–∞–ª–µ–Ω—Ç–∏–Ω–æ–º –•–∞—Å–∞–ø–æ–≤—ã–º, –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–º –ö–∞–Ω–¥–∏–Ω—ã–º –∏ –¥—Ä—É–≥–∏–º–∏. –û—Ç –Ω–∏—Ö —è –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∞ –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º—É –ù–¢–°–ù–ü. —ç—Ç–∏—Ö –ª—é–¥–µ–π —è –≥–ª—É–±–æ–∫–æ —É–≤–∞–∂–∞–ª–∞: –≤—Å–µ –æ–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ –ø–∞—Ç—Ä–∏–æ—Ç–∞–º–∏ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏.
–í–µ—Ä–Ω—É–≤—à–∏—Å—å –≤ –ö–ª–∏–Ω—Ü—ã, —è –Ω–µ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª–∞ –ø—Ä–æ–ø—É—Å–∫, –∏ –∑–∞ –º–Ω–æ–π –ø—Ä–∏—Å–ª–∞–ª–∏ –Ω–∞—Ä–æ—á–Ω–æ–≥–æ. –û–Ω –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –º–µ–Ω—è –≤ –∫–æ–º–µ–Ω–¥–∞—Ç—É—Ä—É, –≥–¥–µ —è —Å–¥–∞–ª–∞ –ø—Ä–æ–ø—É—Å–∫. –ü–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É —è –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∞ –ø–æ-–Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∏, –º–Ω–µ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–Ω–æ –ø—Ä–∏—Å—Ç—É–ø–∏—Ç—å –Ω–∞ –≤—Ä–µ–º—è –ª–µ—Ç–Ω–∏—Ö –∫–∞–Ω–∏–∫—É–ª –∫ —Ä–∞–±–æ—Ç–µ –º–ª–∞–¥—à–µ–π –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–¥—á–∏—Ü–µ–π –ø–æ –≤—ã–¥–∞—á–µ –ø—Ä–æ–ø—É—Å–∫–æ–≤ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—é; –∏—Ö –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–¥—á–∏—Ü–∞, "—Ñ–æ–ª—å–∫—Å–¥–æ–π—á–µ", —É—à–ª–∞ –≤ –æ—Ç–ø—É—Å–∫ –ø–æ –±–µ—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏.
–°–µ–¥—å–º–æ–µ –æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –∫–æ–º–µ–Ω–¥–∞—Ç—É—Ä—ã, –≥–¥–µ —è –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∞, –Ω–∞–ª–∞–∂–∏–≤–∞–ª–æ –∂–∏–∑–Ω—å –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ: –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–æ —à–∫–æ–ª—ã, –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü—ã, –±–∞–Ω–∏, –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–∞ - –∫–æ–∂–µ–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ, –æ–±—É–≤–Ω–æ–µ, —Å—É–∫–æ–Ω–Ω–æ–µ –∏ –¥—Ä—É–≥–∏–µ. –í –º–æ–∏ –∑–∞–¥–∞—á–∏ –≤—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –∑–∞–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞ –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–º —è–∑—ã–∫–µ –ø—Ä–æ–ø—É—Å–∫–æ–≤ –¥–ª—è –ø–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏—è –Ω–∞—à–∏—Ö —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –ª—é–¥–µ–π –ø–æ –æ–∫–∫—É–ø–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏. –í–æ–∑–≥–ª–∞–≤–ª—è–ª —ç—Ç–æ –æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–π —Å–æ–≤–µ—Ç–Ω–∏–∫, —é—Ä–∏—Å—Ç, –¥–æ–∫—Ç–æ—Ä –•–µ–π–Ω—Ü —Ñ–æ–Ω –ú–∞—Ä–ª–∏–Ω–≥—Ö–∞—É–∑. –ï–≥–æ –ø–æ–º–æ—â–Ω–∏–∫–æ–º –±—ã–ª –ì–æ–ª—å–∫–µ. –û–Ω –ø–æ–º–æ–≥ –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏—Ç—å –∞—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –æ—Ç—Ü–∞ –º–æ–µ–π –ø–æ–¥—Ä—É–≥–∏ –¢–∞—Ç—å—è–Ω—ã –ë—É—Ä–∞–∫–æ–≤–æ–π. –î–æ–∫—Ç–æ—Ä –ú–∞—Ä–ª–∏–Ω–≥—Ö–∞—É–∑ –ø–æ–¥–ø–∏—Å—ã–≤–∞–ª –ø—Ä–æ–ø—É—Å–∫–∞ –Ω–µ –≥–ª—è–¥—è, —è –º–æ–≥–ª–∞ –≤—ã–¥–∞–≤–∞—Ç—å –∏—Ö –ª—é–±–æ–º—É –∏ —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª–∞—Å—å –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å–∏—Ç—å –ø–æ–±–æ–ª—å—à–µ –ø–æ–ª—å–∑—ã –ª—é–¥—è–º.
–ß–µ—Ä–µ–∑ –∫–∞–∫–æ–µ-—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —è –ø–æ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏–ª–∞—Å—å —Å –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–ø–ª–µ–Ω–Ω—ã–º –≤—Ä–∞—á–æ–º-—Ö–∏—Ä—É—Ä–≥–æ–º –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–º –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∏—á–µ–º –ö–æ—à–ª–∞–∫–æ–≤—ã–º. –û–Ω –æ–ø–µ—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –∏ –ª–µ—á–∏–ª –Ω–∞—à–∏—Ö –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–ø–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ –°—É—Ä–∞–∂–µ –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏ –≤ –ª–∞–∑–∞—Ä–µ—Ç–µ –¥–ª—è –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–ø–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö. –ü–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –Ω–∞ –Ω–æ–≥–∏ 53 —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞. (–ü–æ—Å–ª–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ –æ–Ω –ø–µ—Ä–µ–µ—Ö–∞–ª –∫ –Ω–∞–º –≤ –ö–ª–∏–Ω—Ü—ã, –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ –∏–∑ —ç—Ç–∏—Ö –ª—é–¥–µ–π —É—à–ª–æ –≤ –ø–∞—Ä—Ç–∏–∑–∞–Ω—ã.) –ü–∏—Å–∞–ª —Å—Ç–∏—Ö–∏ –∏ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã, —Ä–∏—Å–æ–≤–∞–ª, –∏–≥—Ä–∞–ª –Ω–∞ —Å–∫—Ä–∏–ø–∫–µ –∏ –Ω–∞ —Ä–æ—è–ª–µ. (–í–ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–∏, –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –Ω–∞ —Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–∏ –¢–∞—Ö—Ç–∞–º—ã–≥–¥–∞ –ß–∏—Ç–∏–Ω—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏ –µ–≥–æ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã —Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –ø–æ —Ä—É–∫–∞–º —Å—Ä–µ–¥–∏ –∑–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω–Ω—ã—Ö; —Ç–∞–º –¥–æ–∫—Ç–æ—Ä –ö–æ—à–ª–∞–∫–æ–≤ –∏ —É–º–µ—Ä 3 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è 1947 –≥–æ–¥–∞ –≤ –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç–µ 31 –≥–æ–¥–∞ –æ—Ç –ø–∞—Ä–∞–ª–∏—á–∞ —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞, –∫–∞–∫ –±—ã–ª–æ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–æ.)
–í –∞–ø—Ä–µ–ª–µ 1943 –≥. —è –≤—ã—à–ª–∞ –∑–∞ –Ω–µ–≥–æ –∑–∞–º—É–∂. –ú–Ω–µ –±—ã–ª–æ 19 –ª–µ—Ç, –µ–º—É 27. –ü–æ—Å–ª–µ –ø–æ—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è –Ω–µ–º—Ü–µ–≤ –ø–æ–¥ –°—Ç–∞–ª–∏–Ω–≥—Ä–∞–¥–æ–º –º—ã —Ä–∞—Å–ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—è–ª–∏ –ª–∏—Å—Ç–æ–≤–∫–∏ –Ω–∞ –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–º —è–∑—ã–∫–µ: "–¢–µ–Ω–∏ –ø–æ–¥ –°—Ç–∞–ª–∏–Ω–≥—Ä–∞–¥–æ–º". –õ–∏—Å—Ç–æ–≤–∫–∏ —Å–±—Ä–æ—Å–∏–ª –≤ —Ç—ã–ª—É –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–π –∞—Ä–º–∏–∏ –Ω–∞—à —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç, –∏ –º–æ–π –±—Ä–∞—Ç –í–æ–ª–æ–¥—è –∏—Ö –Ω–∞—à–µ–ª. –î–µ–ª–æ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –æ—Ç –Ω–µ–º—Ü–µ–≤ –≤ —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —Å–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∏ —Ä–∞–∑–º–µ—Ä—ã –ø–æ—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è.
–ü–æ—Å–ª–µ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∞ –Ω–µ–º—Ü–µ–≤ –∫ –Ω–∞–º –≤ –ö–ª–∏–Ω—Ü—ã –ø–µ—Ä–µ–±—Ä–∞–ª–∞—Å—å –∏–∑ –ú–∏–Ω—Å–∫–∞ –Ý.–ú. –®–∫–ª—è—Ä–æ–≤–∞ –∏ –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∞ –Ω–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç—É –≤ —Ç–æ—Ç –∂–µ –æ—Ç–¥–µ–ª –∫–æ–º–µ–Ω–¥–∞—Ç—É—Ä—ã, –≥–¥–µ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∞ —è. –û–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –Ω–∞ 15 –ª–µ—Ç —Å—Ç–∞—Ä—à–µ –º–µ–Ω—è –∏ –±–æ–ª–µ–µ –æ–ø—ã—Ç–Ω–∞. –ù–∞—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∞ –æ–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –ø–∞—Ç—Ä–∏–æ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏, –∏ —è —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –µ–π –æ–± –ù–¢–° –∏ –µ–≥–æ —Ü–µ–ª—è—Ö. –í—Å–∫–æ—Ä–µ –µ–µ –∞—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–ª–æ –º–µ—Å—Ç–Ω–æ–µ –≥–µ—Å—Ç–∞–ø–æ –ø–æ –ø–æ–¥–æ–∑—Ä–µ–Ω–∏—é –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ –µ–≤—Ä–µ–π–∫–∞. –Ø –Ω–æ—Å–∏–ª–∞ –µ–π –≤ —Ç—é—Ä—å–º—É –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—á—É, –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è—è –º–æ–∏—Ö –¥–æ–º–∞—à–Ω–∏—Ö –≥–æ–ª–æ–¥–Ω—ã–º–∏. –î–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ –µ–≤—Ä–µ–π–∫–∞ (–¥–ª—è –Ω–µ–º—Ü–µ–≤ –æ–Ω–∞ —Å–≤–æ–∏ –¥–∞–Ω–Ω—ã–µ, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª–∞) –Ω–µ —Å–º–æ–≥–ª–∏ –∏ —á–µ—Ä–µ–∑ –º–µ—Å—è—Ü –µ–µ –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏–ª–∏. –Ø —Å—á–∏—Ç–∞—é, —á—Ç–æ —Ç—É—Ç –ø–æ–º–æ–≥–ª–æ —Ç–∞–∫–∂–µ —Ö–æ–¥–∞—Ç–∞–π—Å—Ç–≤–æ –¥–æ–∫—Ç–æ—Ä–∞ —Ñ–æ–Ω –ú–∞—Ä–ª–∏–Ω–≥—Ö–∞—É–∑–∞ –∏–ª–∏ –ì–æ–ª—å–∫–µ, –ª—é–¥–µ–π –æ—á–µ–Ω—å —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–Ω—ã—Ö.
–ù–æ –≤ –∏—é–Ω–µ 1943 –≥. –Ý–µ–≥–∏–Ω—É –ú–æ–∏—Å–µ–µ–≤–Ω—É —Å–Ω–æ–≤–∞ –∞—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–ª–∏ - –Ω–∞ —ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑ –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∞—è –∫–æ–Ω—Ç—Ä—Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫–∞ –∏–∑ –ì–æ–º–µ–ª—è. –ê 6 –∏—é–ª—è –∞—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–ª–∏ –º–æ–µ–≥–æ –º—É–∂–∞, –º–æ—é –¥–≤–æ—é—Ä–æ–¥–Ω—É—é —Å–µ—Å—Ç—Ä—É –í–∞–ª–µ–Ω—Ç–∏–Ω—É –°–º–∏—Ä–Ω–æ–≤—É, –Ω–∞—à—É –ø–æ–¥—Ä—É–≥—É –¢–∞—Ç—å—è–Ω—É –ë—É—Ä–∞–∫–æ–≤—É –∏ –º–µ–Ω—è. –í—Å–µ—Ö —É–≤–µ–∑–ª–∏ –≤ –Ω–µ–º–µ—Ü–∫—É—é —Ç—é—Ä—å–º—É –≤ –ì–æ–º–µ–ª—å. –Ø –±—ã–ª–∞ –Ω–∞ –≤—Ç–æ—Ä–æ–º –º–µ—Å—è—Ü–µ –±–µ—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏.
–ú–µ–Ω—è –ø–æ–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏ –≤ –∫–∞–º–µ—Ä—É ‚Ññ 27, –∞ —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–∞ –¥–Ω—è —Ç—É–¥–∞ –≤—Ç–æ–ª–∫–Ω—É–ª–∏ –Ý.–ú. –®–∫–ª—è—Ä–æ–≤—É. –û–Ω–∞ –∑–∞—Ä—ã–¥–∞–ª–∞, –±—Ä–æ—Å–∏–ª–∞—Å—å –ø–µ—Ä–µ–¥–æ –º–Ω–æ–π –Ω–∞ –∫–æ–ª–µ–Ω–∏ –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞, —á—Ç–æ, –Ω–µ –≤—ã–¥–µ—Ä–∂–∞–≤ –∂–µ—Å—Ç–æ–∫–∏—Ö –ø—ã—Ç–æ–∫, –∏–∑–±–∏–µ–Ω–∏–π –∏ —É–≥—Ä–æ–∑ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª–æ–º, –æ–Ω–∞ –Ω–∞–∑–≤–∞–ª–∞ –Ω–∞—à–∏ –∏–º–µ–Ω–∞. –ï–µ –æ–±–≤–∏–Ω—è–ª–∏ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ, –±—É–¥—É—á–∏ –µ–≤—Ä–µ–π–∫–æ–π, –æ–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∞ –≤ –æ–∫–∫—É–ø–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã—Ö –æ–±–ª–∞—Å—Ç—è—Ö —Å –∑–∞–¥–∞–Ω–∏–µ–º –ø—Ä–æ–Ω–∏–∫–∞—Ç—å –≤ –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∏–µ —É—á—Ä–µ–∂–¥–µ–Ω–∏—è, —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–∏ –Ω–∞–∑–≤–∞—Ç—å –∞–Ω—Ç–∏–Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∏–µ –≥—Ä—É–ø–ø–∏—Ä–æ–≤–∫–∏. –û–Ω–∞ –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å –≤ –∂–∏–≤—ã—Ö: –º–µ–Ω—è –≤–ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–∏ –¥–æ–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª–∏ –æ –Ω–µ–π —É–∂–µ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∏–µ —Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª–∏.
–í –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–π —Ç—é—Ä—å–º–µ –º—ã —Å –º—É–∂–µ–º –ø—Ä–æ–±—ã–ª–∏ —Å–µ–º—å —Å –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω–æ–π –º–µ—Å—è—Ü–µ–≤. –ù–∞—Å –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏–ª–∏ –≤ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª—è 1944 –≥. –∏–∑ —Ç—é—Ä—å–º—ã –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –ú–æ–∑—ã—Ä—è. –ù–µ–∑–∞–¥–æ–ª–≥–æ –¥–æ —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫–∞ "–ê–±–≤–µ—Ä–∞ 315" –ì–∞—Ä—Ç–º–∞–Ω–∞ —Å–º–µ–Ω–∏–ª –æ–±–µ—Ä-–ª–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç –¶–∏–Ω—Ç, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –æ—Ç–¥–∞–ª —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞—Å —Å –º—É–∂–µ–º –≤—ã–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å –∏–∑ —Ç—é—Ä—å–º—ã. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –ì–∞—Ä—Ç–º–∞–Ω –µ—â–µ –≤ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ –¥–≤—É—Ö –º–µ—Å—è—Ü–µ–≤ –Ω–µ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª –Ω–∞–º –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–æ–≤, –∏ –º—ã –±—ã–ª–∏ –ø–æ–¥ –¥–æ–º–∞—à–Ω–∏–º –∞—Ä–µ—Å—Ç–æ–º. 2 –º–∞—Ä—Ç–∞ 1944 –≥–æ–¥–∞ —É –Ω–∞—Å —Ä–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å –¥–æ—á—å –ò—Ä–∏–Ω–∞.
–í –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–π —Ç—é—Ä—å–º–µ, –¥–æ–±–∏–≤–∞—è—Å—å –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω–∏—è –≤ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫ –∞–Ω—Ç–∏–Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–π –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏, –º–µ–Ω—è –∏–∑–±–∏–≤–∞–ª–∏ –ø–∞–ª–∫–∞–º–∏, –æ–±–∫—Ä—É—á–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –ø—Ä–æ–≤–æ–ª–æ–∫–æ–π, —Ç–µ–ª–æ –ø–æ–∫—Ä—ã–ª–æ—Å—å –≥–Ω–æ—è—â–∏–º–∏—Å—è —Ä–∞–Ω–∞–º–∏. –û—Ç –≥–æ–ª–æ–¥–∞ —è –æ–ø—É—Ö–ª–∞, –∑—É–±—ã –∫—Ä–æ—à–∏–ª–∏—Å—å –ø–æ–¥ –ø–∞–ª—å—Ü–∞–º–∏, –∫–∞–∫ –º–æ–∫—Ä—ã–π —Å–∞—Ö–∞—Ä. –í—ã–≤–æ–¥–∏–ª–∏ –º–µ–Ω—è –∏ –Ω–∞ "—Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª" –¥–ª—è "–ø—Å–∏—Ö–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –≤–æ–∑–¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è".
"–ê–ï –í–û–°–ï–ú–¨–°–û–¢ –î–í–ê–î–¶–ê–¢–¨ –ß–ï–¢–´–Ý–ï"
–ü–æ—Å–ª–µ –æ—Ç—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏—è –Ω–µ–º—Ü–µ–≤ —è —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∞ –≤ –≥. –ë—Ä–µ—Å—Ç–µ –º–µ–¥–∏—Ü–∏–Ω—Å–∫–æ–π —Å–µ—Å—Ç—Ä–æ–π –Ω–∞ —Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–∏ –ø–µ—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–Ω–∏—è –∫—Ä–æ–≤–∏. –ú—É–∂ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª —Ö–∏—Ä—É—Ä–≥–æ–º –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–æ–π –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü–µ –ë—Ä–µ—Å—Ç–∞. –¢–∞–º –º—ã –±—ã–ª–∏ –∞—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–Ω—ã –æ—Ä–≥–∞–Ω–∞–º–∏ –£–ù–ö–ì–ë: –º—É–∂ - 6 —è–Ω–≤–∞—Ä—è, —è - 23 —è–Ω–≤–∞—Ä—è 1945 –≥. - –ø–æ –æ–±–≤–∏–Ω–µ–Ω–∏—é –≤ "–ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫ –∞–Ω—Ç–∏—Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –ù–¢–°–ù–ü", –≤ —Ä–∞–±–æ—Ç–µ –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–¥—á–∏—Ü–µ–π –≤ –∫–æ–º–µ–Ω–¥–∞—Ç—É—Ä–µ –∏ —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏—Ü–µ–π "–ê–±–≤–µ—Ä –≥—Ä—É–ø–ø—ã 315". –ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π –ø—É–Ω–∫—Ç –æ–±–≤–∏–Ω–µ–Ω–∏—è –±—ã–ª –ø–æ–¥—Ç–∞—Å–æ–≤–∞–Ω —Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª–µ–º –ù–ö–ì–ë –õ–æ–∑—É–Ω–æ–≤—ã–º (–æ–Ω –∂–µ –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫ –ù–ö–ì–ë –≤ –ö–ª–∏–Ω—Ü–∞—Ö). –û–∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏–≤—à–∏—Å—å —Å –¥–µ–ª–æ–º, —è –æ—Ç–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å –ø–æ–¥–ø–∏—Å–∞—Ç—å 206-—é —Å—Ç–∞—Ç—å—é, –æ–±—ä—è–≤–∏–ª–∞ –≤ —Ç—é—Ä—å–º–µ –≥–æ–ª–æ–¥–æ–≤–∫—É, –≤—ã–∑—ã–≤–∞–ª–∞ –ø—Ä–æ–∫—É—Ä–æ—Ä–∞, –ø–∏—Å–∞–ª–∞ –∑–∞—è–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –æ –Ω–µ–ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ–º –≤–µ–¥–µ–Ω–∏–∏ —Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏—è. –ù–æ –õ–æ–∑—É–Ω–æ–≤ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–º–µ—è–ª—Å—è –∏ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–∫—É—Ä–æ—Ä - –µ–≥–æ –¥—Ä—É–≥.
–ú–µ–Ω—è –ø—Ä–∏–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏ –∫ 15 –≥–æ–¥–∞–º –ò–¢–õ –ø–æ —Å—Ç. 58-1 "–∞". –í –ì–£–õ–ê–ì–µ —è –±—ã–ª–∞ –ø–æ—á—Ç–∏ 11 –ª–µ—Ç, –¥–æ 30 –æ–∫—Ç—è–±—Ä—è 1955 –≥. –°–≤–æ–µ "–Ω–∞–∫–∞–∑–∞–Ω–∏–µ" —è –æ—Ç–±—ã–≤–∞–ª–∞ —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –Ω–∞ —Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–∏ –¢–∞—Ö—Ç–∞–º—ã–≥–¥–∞ –ß–∏—Ç–∏–Ω—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏, –≥–¥–µ —É –º–µ–Ω—è —Ä–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å –≤—Ç–æ—Ä–∞—è –¥–æ—á—å, –õ–∏–Ω–∞. –í –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –æ–Ω–∞ –ø—Ä–æ–±—ã–ª–∞ —Å–æ –º–Ω–æ–π 3 –≥–æ–¥–∞. –î–µ—Ç–∏ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –≤ –±–∞—Ä–∞–∫–µ —Å –Ω—è–Ω—å–∫–æ–π-–±—ã—Ç–æ–≤–∏—á–∫–æ–π, –∞ –Ω–∞—Å, –º–∞—Ç–µ—Ä–µ–π, –≥–æ–Ω—è–ª–∏ –Ω–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç—É. –ö–æ–≥–¥–∞ –≤—Å—Ç–∞–ª –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –æ–± –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∫–µ –µ–µ –≤ –¥–µ—Ç–¥–æ–º, —Ç–æ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∞ –º–æ—è –º–∞–º–∞ –∏ –∑–∞–±—Ä–∞–ª–∞ –µ–µ –≤ –ö–ª–∏–Ω—Ü—ã, –≥–¥–µ —Å –Ω–µ–π —É–∂–µ –∂–∏–ª–∞ –º–æ—è —Å—Ç–∞—Ä—à–∞—è –¥–æ—á—å. –ù–µ –∏–º–µ—è –Ω–∏–∫–∞–∫–∏—Ö —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤ –∫ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏—é, –ø—Ä–µ–∑–∏—Ä–∞–µ–º—ã–µ, –æ–Ω–∏ –µ–¥–≤–∞ –≤—ã–∂–∏–ª–∏.
В лагерях меня держали в "черном теле", назначая на тяжелые работы. Я работала в каменных карьерах, на строительстве железной дороги на БАМе (Дальстрой). Заключенные гоняли по трапу тачки с камнями, работали на лесоповале, на себе выносили баланы тяжелых лиственниц из тайги к реке и штабелевали до весны. Морозы доходили до -56°. Как ни закрывали мы лица платками с прорезями для глаз, кожа трескалась, раны сочились и снова замерзали. Лица покрывались черными струпьями. А летом мучил гнус, укусы которого вызывали невыносимый зуд и отеки.
–ù–∞ –ë–ê–ú–µ —è –±—ã–ª–∞ –Ω–∞ –ª–∞–≥–ø—É–Ω–∫—Ç–∞—Ö ‚Ññ 20, ‚Ññ 25, ‚Ññ 26 –∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö. –û—Ç—Ç—É–¥–∞ —ç—Ç–∞–ø–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∞ –≤ –ò—Ä–∫—É—Ç—Å–∫—É—é –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å –≤ –û—Å–æ–±—ã–π –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç—ã–π —Ä–µ–∂–∏–º–Ω—ã–π –ª–∞–≥–µ—Ä—å - –û–∑–µ—Ä–ª–∞–≥, –≥–¥–µ —Å–Ω–æ–≤–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∞ –Ω–∞ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –∏ –Ω–∞ –ª–µ—Å–æ–ø–æ–≤–∞–ª–µ.
–ó–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω–Ω—ã—Ö –¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏ –Ω–∞ —Ç—é—Ä–µ–º–Ω–æ–º —Ä–µ–∂–∏–º–µ: –±–∞—Ä–∞–∫–∏ –Ω–∞ –Ω–æ—á—å –∑–∞–ø–∏—Ä–∞–ª–∏—Å—å, —Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∞—Å—å –ø–∞—Ä–∞—à–∞, –∫–∞–∫ –≤ —Ç—é—Ä—å–º–µ, –∑–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω–Ω—ã–µ –Ω–æ—Å–∏–ª–∏ –Ω–æ–º–µ—Ä–∞. –ú–æ–π –Ω–æ–º–µ—Ä –±—ã–ª –ê–ï-824. –ß–∞—Å—Ç–æ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –æ–±—ã—Å–∫–∏ - "—à–º–æ–Ω—ã". –í –ª—é–±—É—é –ø–æ–≥–æ–¥—É –∑–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≤—ã–≥–æ–Ω—è–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —á–∞—Å–æ–≤ –ø–æ–¥ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–µ –Ω–µ–±–æ, –∞ –Ω–∞–¥–∑–∏—Ä–∞—Ç–µ–ª–∏ –ø–µ—Ä–µ–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–ª–∏ –≤ –±–∞—Ä–∞–∫–µ –≤—Å–µ –≤–≤–µ—Ä—Ö –¥–Ω–æ–º, –¥–∞–∂–µ —Ä–∞–∑—Ä–µ–∑–∞–ª–∏ –º–∞—Ç—Ä–∞—Ü—ã, –æ—Ç–±–∏—Ä–∞–ª–∏ –æ–≥—Ä—ã–∑–æ–∫ –∫–∞—Ä–∞–Ω–¥–∞—à–∞, –∫–ª–æ—á–æ–∫ –±—É–º–∞–≥–∏, —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–∏ –±–ª–∏–∑–∫–∏—Ö.
–í —Ç–∞–π–≥–µ —Å–ø–∏–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è, –ø–∞–¥–∞—è, –Ω–µ—Ä–µ–¥–∫–æ –∑–∞–≤–∏—Å–∞–ª–∏, —Ü–µ–ø–ª—è—è—Å—å –∑–∞ —Ä—è–¥–æ–º —Å—Ç–æ—è—â–∏–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø–æ—Å–ª–µ —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ —Å–ø–∏–ª–∏–≤–∞—Ç—å. –°–∫–æ–ª—å–∫–æ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω, –ø—Ä–∏–¥–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ø–∞–¥–∞—é—â–∏–º–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è–º–∏, –ø–æ–≥–∏–±–ª–æ –Ω–∞ –º–æ–∏—Ö –≥–ª–∞–∑–∞—Ö! –°–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–∞—Ç–µ—Ä–µ–π –Ω–µ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–æ—Å—å –∫ –¥–µ—Ç—è–º!
–ö–æ–Ω–≤–æ–π —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª, –µ—Å–ª–∏ –ø–µ—Ä–µ—à–∞–≥–Ω–µ—à—å –≤ —Ç–∞–π–≥–µ –∑–∞ –∑–∞–ø—Ä–µ—Ç–∫—É (—ç—Ç–æ –∫–æ–ª —Å —Ñ–∞–Ω–µ—Ä–Ω–æ–π –¥–æ—â–µ—á–∫–æ–π, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–æ "–ó–∞–ø—Ä. –∑–æ–Ω–∞"). –ó–∞–ø—Ä–µ—Ç–∫–∏ —Å–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–µ–º —Ç–µ–º–Ω–µ–ª–∏ –∏ –±—ã–ª–∏ –ø–ª–æ—Ö–æ –≤–∏–¥–Ω—ã.
–°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∏–µ –∫–æ–Ω–≤–æ–∏—Ä—ã —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª–∏ –≤ –º–µ–Ω—è –¥–≤–∞–∂–¥—ã. –í –ø–µ—Ä–≤—ã–π —Ä–∞–∑ –Ω–∞ –ª–µ—Å–æ–ø–æ–≤–∞–ª–µ —è –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª–∞ –∑–∞–ø—Ä–µ—Ç–∫—É. –ö–æ–Ω–≤–æ–∏—Ä –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–ª, –Ω–æ –ø—Ä–æ–º–∞—Ö–Ω—É–ª—Å—è. –í—Ç–æ—Ä–æ–π —Ä–∞–∑ –Ω–∞ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–µ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –ø–æ–¥ –ë—Ä–∞—Ç—Å–∫–æ–º (–≤ "–û–∑–µ—Ä–ª–∞–≥–µ") —è –Ω–∞ –º–µ—Ç—Ä –≤—ã—à–ª–∞ –∑–∞ –∑–∞–ø—Ä–µ—Ç–∫—É, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –≤–æ–ª—å–Ω—ã—Ö –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–¥–æ—Ä–æ–∂–Ω–∏–∫–æ–≤ –¥–∞—Ç—å –Ω–∞–º –Ω–∞ –≤—Ä–µ–º—è –¥—Ä–µ–∑–∏–Ω—É –∏ –ø–æ–¥–≤–µ–∑—Ç–∏ –¥—ë—Ä–Ω, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –≤—ã–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞–ª–∏ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–¥–æ—Ä–æ–∂–Ω—ã–µ –Ω–∞—Å—ã–ø–∏: –º—ã –Ω–æ—Å–∏–ª–∏ –µ–≥–æ –∏–∑–¥–∞–ª–µ–∫–∞ –Ω–∞ –Ω–æ—Å–∏–ª–∫–∞—Ö. –ö–æ–Ω–≤–æ–∏—Ä –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª: "–õ–æ–∂–∏—Å—å!", —è –æ–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∞—Å—å –Ω–∞ —Ä–µ–ª—å—Å—É, –ø—É–ª—è –ø—Ä–æ—Å–≤–∏—Å—Ç–µ–ª–∞ –Ω–∞–¥ –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π. –ó–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω–Ω—ã–µ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏–ª–∏ —Ä–∞–±–æ—Ç—É, –±—Ä–æ—Å–∏–ª–∏—Å—å –∫ –≤—ã—à–∫–µ, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª –∫–æ–Ω–≤–æ–∏—Ä, —Ä–∞—Å–∫–∞—á–∞–ª–∏ –µ–µ –∏ —á—É—Ç—å –Ω–µ –ø–æ–≤–∞–ª–∏–ª–∏ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –∫–æ–Ω–≤–æ–∏—Ä–æ–º. –ù–∞—á–∞–ª—å—Å—Ç–≤–æ —Ä–∞–∑–±–∏—Ä–∞–ª–æ —ç—Ç–æ—Ç —Å–ª—É—á–∞–π, –Ω–æ –∫–æ–Ω–≤–æ–∏—Ä –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∞–≤ - –µ–≥–æ –ª–∏—à—å –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–ª–∏ –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ.
–í —Ç—Ä–µ—Ç–∏–π —Ä–∞–∑ —è –º–æ–≥–ª–∞ –ø–æ–≥–∏–±–Ω—É—Ç—å –æ—Ç –ø—É–ª–∏, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤ –ø—É—Ä–≥—É –∏ –≤ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω—ã–π —Ö–æ–ª–æ–¥ –Ω–∞—Å –≥–Ω–∞–ª–∏ –Ω–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç—É, –∏ –∫–æ–Ω–≤–æ–∏—Ä –≤—ã–ø—É—Å—Ç–∏–ª –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–Ω—É—é –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å –ø–æ –Ω–∞—à–µ–π –∫–æ–ª–æ–Ω–Ω–µ. –ú–Ω–æ–≥–æ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω —É–ø–∞–ª–æ –Ω–∞ –∑–µ–º–ª—é, —Ä–∞–∑–¥–∞–≤–∞–ª–∏—Å—å —É–∂–∞—Å–Ω—ã–µ —Å—Ç–æ–Ω—ã –∏ –∫—Ä–∏–∫–∏. –ù–∞—Å, –Ω–µ –ø–æ—Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–≤—à–∏—Ö, —Å—Ä–∞–∑—É –æ—Ç–æ–≥–Ω–∞–ª–∏, –∞ —É–ø–∞–≤—à–∏–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ —Å–Ω–µ–≥—É. –í–µ—á–µ—Ä–æ–º, –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞—è—Å—å —Å —Ä–∞–±–æ—Ç—ã, –º—ã –ø—Ä–æ—à–ª–∏ –ø–æ –∫—Ä–æ–≤–∏ —Å–≤–æ–∏—Ö –ø–æ–¥—Ä—É–≥. –ö—Ç–æ –±—ã–ª –∏–∑ –Ω–∏—Ö —É–±–∏—Ç, –∞ –∫—Ç–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–Ω–µ–Ω, –º—ã —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ —É–∑–Ω–∞–ª–∏. –ö–æ–Ω–≤–æ–∏—Ä–∞ –Ω–µ —Å—É–¥–∏–ª–∏: –æ–Ω, –º–æ–ª, —Å–ø–æ—Ç–∫–Ω—É–ª—Å—è, —É–ø–∞–ª –∏ "—Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ" –ø—É—Å—Ç–∏–ª –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å –≤ –∑–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∂–µ–Ω—â–∏–Ω. –ï–≥–æ —Ç–æ–∂–µ –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–ª–∏ –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ.
–ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π –º–æ–π –ª–∞–≥–µ—Ä—å –±—ã–ª –≤ –ú–æ—Ä–¥–æ–≤—Å–∫–æ–π –ê–°–°–Ý, –≤ –ó—É–±–æ–≤–æ-–ü–æ–ª—è–Ω—Å–∫–æ–º —Ä–∞–π–æ–Ω–µ (–ü–æ—Ç—å–º–∏–Ω—Å–∫–∏–µ –ª–∞–≥–µ—Ä—è). –Ø –±—ã–ª–∞ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∞ 30 –æ–∫—Ç—è–±—Ä—è 1955 –≥. –≤ —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–∏–∏ —Å–æ —Å—Ç. 2 —É–∫–∞–∑–∞ –ø—Ä–µ–∑–∏–¥–∏—É–º–∞ –≤–µ—Ä—Ö–æ–≤–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–≤–µ—Ç–∞ –°–°–°–Ý –æ—Ç 17.09.1955 –≥. —Å–æ —Å–Ω—è—Ç–∏–µ–º —Å—É–¥–∏–º–æ—Å—Ç–∏ –∏ –ø–æ—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è –≤ –ø—Ä–∞–≤–∞—Ö. –í —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä–µ 1963 –≥. –º–µ–Ω—è —Ä–µ–∞–±–∏–ª–∏—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏. –ê –º–æ–µ–≥–æ –º—É–∂–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —É–º–µ—Ä –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –≤ 1947 –≥., —Ä–µ–∞–±–∏–ª–∏—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏ –ø–æ—Å–º–µ—Ä—Ç–Ω–æ...
–í –≥–µ—Å—Ç–∞–ø–æ–≤—Å–∫—É—é —Ç—é—Ä—å–º—É —è –ø–æ–ø–∞–ª–∞ "–∑–∞ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –∫ –∞–Ω—Ç–∏–Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–π –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –ù–¢–°–ù–ü". –í —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫—É—é —Ç—é—Ä—å–º—É –∏ –ª–∞–≥–µ—Ä—è - "–∑–∞ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –∫ –∞–Ω—Ç–∏—Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –ù–¢–°–ù–ü".
–ú–æ–µ–π —Ä–æ–¥–∏–Ω–µ —è –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –∏–∑–º–µ–Ω—è–ª–∞.
“Посев” № 4 за 1994 г.
–û—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –æ—Ç–∑—ã–≤